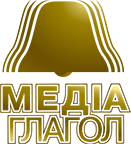I. От Хименеса и Эразма до Эльзевиров
Изобретенная Иоганном Гутенбергом технология книгопечатания, основанная на использовании подвижных литер, оказала самое серьезное воздействие на западную культуру и цивилизацию. Теперь копирование книг ускорилось и удешевилось, но главное - повысилась степень аккуратности в воспроизведении текста. И не случайно первым и главным детищем первопечатника стала роскошная Библия. Иеронимова Вульгата была издана Гутенбергом в Майнце между 1450 и 1456 г., а в течение следующих 50 лет различными типографиями было выпущено по меньшей мере 100 изданий латинского текста Библии. В 1488 г. появилось первое полное издание еврейского Ветхого Завета, напечатанное в ломбардской типографии Сонцино. К началу XVI в. Библия была издана на основных языках Западной Европы - богемском (чешском), французском, немецком и итальянском.
Говоря о греческом тексте Нового Завета, необходимо заметить, что, за исключением нескольких коротких отрывков [229], полностью он был напечатан лишь в 1514 г. Эту задержку на 60 лет после изобретения типографского способа печати объясняют двумя причинами.
Прежде всего, главная сложность состояла в изготовлении греческих шрифтов, необходимых для книги сколько-нибудь значительного объема, что оказалось трудоемким и дорогостоящим делом [230]. Была предпринята попытка воссоздать в печати минускульное греческое письмо, изобиловавшее многочисленными вариантами начертания одной и той же буквы, а также лигатурами - особыми формами для соединения двух или трех букв (ligatures) в один типографский знак [231]. Таким образом, вместо производства шрифта, состоящего из 24 букв греческого алфавита, печатники вынуждены были сделать около 200 различных форм. (Со временем эти вариантные формы одних и тех же букв исчезли; сегодня существуют лишь две формы строчной сигмы - σ и ς.)
Основной причиной того, что греческий текст Нового Завета увидел свет так поздно, явился высокий престиж латинской Вульгаты Иеронима. Переводы на разговорные языки ничуть не умаляли превосходства латинского текста, с которого они и были сделаны. Однако публикация Нового Завета по-гречески давала любому ученому, владеющему обоими языками, возможность критически смотреть на признанную Библию официальной церкви и править ее.
Тем не менее в 1514 г. Новый Завет был впервые опубликован на греческом языке в составе многоязычной Библии. Замысел объединить в одном издании библейские тексты на еврейском, арамейском, греческом и латинском языках принадлежит кардиналу-примасу Испании Франциско Хименесу де Сиснеросу (Francisco Ximenes de Cisneros, 1437-1517). Это прекрасное издание вышло в свет в университетском городке Алкала [232] (по-латински Complutum) [233]. Грандиозный свод под названием «Комплютенская многоязычная Библия» [234] редактировался многими учеными, среди которых, пожалуй, наиболее известен Диего Лопес де Суньига (Стуника) [235]. Первым был напечатан том V, содержавший Новый Завет и греко-латинский словарь (в колофоне указана дата 10 января 1514 г.) Том VI - Приложения, включавший еврейский словарь и основы еврейской грамматики, был напечатан следующим в 1515 г. Позже появились четыре тома Ветхого Завета, дата выпуска последнего из них - 10 июля 1517 г. Разрешение папы Льва X, которое открывало текст I тома, было получено лишь 22 марта 1520 г. По-видимому, тираж Полиглотты был выпущен в обращение (т. е., собственно говоря, опубликован) только около 1522 г.
Четыре тома Ветхого Завета содержат еврейский текст, латинскую Вульгату и греческую Септуагинту, которые располагались в трех колонках на каждой странице вместе с арамейским Таргумом Онкелоса (парафразом Пятикнижия), который сопровождается переводом на латинский язык внизу страницы. Четкий и красивый греческий шрифт, который использовался для печатания Нового Завета, был смоделирован по рукописным источникам XI-XII вв. (см. рис. 22) [236]. В нем отсутствуют знаки густого и тонкого придыхания, а ударение расставлено совершенно произвольно: односложные слова вовсе не имеют его, тогда как ударные слоги отмечены простым апексом [237], напоминающим греческое острое ударение. Подле каждого греческого слова или группы слов проставлена латинская буква, отсылающая к переводу этого места в параллельном тексте Вульгаты, что помогает ориентироваться читателям, недостаточно знающим греческий язык. Септуагинта напечатана обычным курсивом, который стал широко использоваться благодаря Альду Мануцию (Manutius), знаменитому венецианскому печатнику.
Рис. 22. Комплютенская Полиглотта, том V. Первое печатное издание греческого Нового Завета (1514). Рим 1:27-2:15 (см.). Размер оригинала 35×24 см.
Точно не известно, какая именно греческая рукопись легла в основу Комплютенского Нового Завета [238]. В открывающем издание посвящении папе Льву X Хименес говорит о том, каких трудов стоило отыскание латинских, греческих и еврейских рукописей, и замечает: «Греческими рукописями воистину обязаны мы Вашему святейшеству, предоставившему в наше распоряжение из Апостолической библиотеки древнейшие рукописи, как Ветхого, так и Нового Заветов; весьма много помогли они осуществлению предприятия нашего» [239].
Хотя Комплютенскому тексту суждено было стать первым напечатанным греческим Новым Заветом, первым опубликованным, т. е. выпущенным на рынок, оказалось издание, подготовленное знаменитым голландским ученым-гуманистом Дезидерием Эразмом Роттердамским (1469-1536) [240]. Невозможно точно определить, когда именно Эразм задумал его, но уже в августе 1514 года, будучи в Базеле, Эразм обсуждал такую возможность с известным издателем Иоганном Фробеном (Froben), и вероятно, делал это уже не в первый раз. Их переговоры, как кажется, были прерваны на некоторое время, но возобновились в апреле 1515 года, когда Эразм находился в Кембриджском университете. Именно тогда Фробен через их общего друга Беата Ренана (Rhenanus) убедил его немедленно сесть за подготовку издания Нового Завета. Без сомнения, Фробен слышал о готовящемся выходе испанской многоязычной Библии и, предчувствуя готовность читательской аудитории к появлению в продаже греческого Нового Завета, захотел обратить ситуацию в свою пользу прежде, чем Хименес завершит свою работу, и текст его будет разрешен к выпуску. Предложение Фробена, которое сопровождалось обещанием суммы, которую заплатил бы любой другой заказчик (se daturum pollicetur, quantum alius quisquam), было сделано как раз вовремя. Вновь уезжая в Базель в июле 1515 г., Эразм надеялся отыскать греческие рукописи достаточно хорошего качества, которые можно было сразу отправить в набор и напечатать рядом с Вульгатой, «которую Эразм достаточно сильно отредактировал, дабы она точно передавала греческий текст в колонке напротив» [241]. К его разочарованию, те рукописи, которые он смог в тот момент достать, требовали определенной правки, прежде чем с них можно набирать текст [242].
Печатать книгу начали 2 октября 1515 г., и в удивительно короткий срок - к 1 марта 1516 г. - все издание было закончено. Огромный том в 1000 страниц, по признанию Эразма, был «скорее обрушен на читателя, чем издан» (praecipitatum verius quam editum). Из-за спешки были допущены сотни типографских ошибок; Скривенер как-то сказал: «В смысле опечаток это самая неудачная книга из всех, какие я знаю» [243]. Поскольку Эразм не смог найти одну рукопись, которая содержала бы весь греческий текст полностью, ему пришлось пользоваться для разных частей Нового Завета разными рукописями. Большую часть новозаветных книг Эразм напечатал по двум довольно посредственным в текстуальном отношении рукописям, найденных им в монастырской библиотеке в Базеле: Евангелия - по одной (см. рис. 23), Деяния и послания - по другой. Оба списка датируются приблизительно XII в. [244] Эразм сравнил их с двумя-тремя другими рукописями тех же книг и внес прямо в рукопись кое-какую корректурную правку на полях и между строк [245]. Далее, Эразм располагал одной-единственной рукописью Откровения, которую он одолжил у своего друга Рейхлина (Reuchlin). Относилась эта копия к XII в., и была, к сожалению, неполной: отсутствовал последний лист, где должны были находиться заключительные шесть стихов Откровения. Вместо того, чтобы задерживать публикацию поисками исправного текста, Эразм (видимо, по настоянию издателя) сделал обратный перевод этих стихов на греческий с Вульгаты. Как нетрудно догадаться, самодельный греческий текст, полученный в результате подобной процедуры, содержит такие чтения, каких мы не встретим ни в одной из известных нам оригинальных рукописей - однако эти чтения сохраняются в многочисленных воспроизведениях так называемого Общепринятого текста (Textus Receptus) греческого Нового Завета [246].
Рис 23. Греческая евангельская рукопись 2 (XII век). Университетская библиотека, Базель. Лк 6:20-30. Это одна из второстепенных рукописей, использованных Эразмом для подготовленного им первого издания греческого Нового Завета (см.). Видна внесенные Эразмом правка текста и указания для наборщика (например, в строках 8 и 9 косая черта отделяет предлог от следующего за ним слова; на нижнем поле рукой Эразма добавлено προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, случайно опущенное переписчиком рукописи в стихе 28 (3 строка снизу). Размер оригинала 19,5×15 см.
В некоторых местах греческого текста Эразм вносит правку по Вульгате. Так, в сцене обращения Павла на пути в Дамаск стих Деян 9:6 («Он в трепете и ужасе сказал: Господи! Что повелишь мне делать?») был бестрепетно перенесен Эразмом из Вульгаты. Это добавление, которое отсутствует во всех известных нам греческих рукописях (хотя и появляется в параллельном тексте Деян 22:10), вошло в Textus Receptus, ставший основой перевода Библии короля Иакова (1611 г.).
Текст, опубликованный Эразмом Роттердамским, - первое широко доступное печатное издание Нового Завета, - аудитория восприняла по-разному. С одной стороны, его широко покупали по всей Европе. Менее чем через три года потребовалось второе издание книги, причем суммарный тираж обоих изданий 1516 и 1519 г. составил 3300 экземпляров. Второе издание легло в основу немецкого перевода, сделанного Лютером [247]. С другой стороны, на труд Эразма многие смотрели с подозрением, а кое-кто даже враждебно. Во втором издании классическую иеронимову Вульгату Эразм заменил собственным, более элегантным латинским переводом, который во многих местах менял привычное звучание латинских слов и оттого воспринимался как претенциозная инновация. Более всего возражений вызывали краткие аннотации, в которых Эразм обосновывал свой перевод: среди замечаний сугубо филологического свойства периодически встречались довольно едкие комментарии о далеком от евангельского идеала образе жизни священников. По словам Дж. Э. Фруда, «кожа духовенства стала слишком нежной от долгой безнаказанности. С амвонов и трибун кричали они, негодуя, и вся Европа оглашалась эхом их криков» [248]. В конце концов, «многие университеты, и среди них Кембриджский и Оксфордский, запретили студентам читать, а книготорговцам - продавать сочинения Эразма» [249].
Среди многих критических стрел, летевших в него, самую серьезную, по-видимому, выпустил Стуника, один из издателей Комплютенской многоязычной Библии Хименеса. Стуника указал на то, что в издании Эразма отсутствует так называемая Comma Johanneum [250] - иными словами, те стихи Первого послания Иоанна, где содержится тринитарное утверждение: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле…» (1 Ин 5:7-8). На подобное обвинение Эразм возразил, что этих слов он не обнаружил ни в одной греческой рукописи, хотя за прошедшее с момента первого издания время смог изучить довольно много их. Эразм пообещал, что в том случае, если отыщется хоть одна греческая рукопись, содержащая этот отрывок, то он вставит его в последующих изданиях своего Нового Завета [251]. В конце концов, такую рукопись отыскали - или, вернее сказать, подделали. Ныне известно, что была она написана в Оксфорде около 1520 г. монахом-францисканцем по имени Фрой (или Рой), который заимствовал этот отрывок из латинской Вульгаты [252]. При подготовке следующего, третьего издания (1522 г.) Эразм свое обещание выполнил и эти слова в греческий текст Нового Завета вставил, сопроводив их, однако, длинным примечанием, в котором предположил, что искомая рукопись была сфабрикована [253].
Среди тысяч греческих новозаветных рукописей, изученных со времен Эразма, только восемь содержат этот отрывок. В четырех из низ Comma находится в тексте, и еще в четырех добавлена на полях в качестве текстуального разночтения. Вот эти рукописи (обозначения даны по системе Грегори - Аланда) [254]:
61: Codex Montfortianus, начала XVI в., хранящийся в Тринити-колледже (Дублин). Этот кодекс был переписан в оксфордском Линкольн-колледже с рукописи X века, текст которой не содержал Comma; при переписывании были также добавлены и другие дополнения, заимствованные из латинского текста.
88v.r.: вариантное чтение, написанное почерком XVI века и добавленное в Codex Regius XII века, хранящийся в Неаполе.
221v.r: вариантное чтение, добавленное в рукопись X века из Бодлеянской библиотеки (Оксфорд).
429v.r: вариантное чтение, добавленное в рукопись XV века из Вольфенбюттеля (Wolfenbüttel).
629: Codex Ottobonianus, хранящийся в Ватикане. Представляет собой греко-латинскую диглотту XIV века, в которой греческий текст выправлен по Вульгате.
636v.r: вариантное чтение, добавленное в рукопись XV века, хранящуюся в Неаполе.
918: рукопись XVI века, хранящаяся в испанском Эскориале.
2318: рукопись XVIII века, чей текст испытал влияние Вульгаты Климентины, хранящаяся в Бухаресте (Румыния).
Древнейшее цитирование Comma Johanneum мы встречаем в латинском трактате IV в. Liber apologeticus (гл. 4), авторство которого приписывается либо Присциллиану, либо одному из его последователей, испанскому епископу Инстанцию. Возможно, Comma появилась как аллегорическое истолкование слов о «трех свидетелях» и могла быть написана как глосса на полях латинской рукописи 1 Ин, а впоследствии перенесена в старолатинскую версию в V в. Этого отрывка нет в рукописях латинской Вульгаты, созданных ранее 800 года. Апеллируя к тому факту, что Comma входит в состав латинской Вульгаты Климентины, изданной в 1592 г., Святая палата (т. е. Верховная Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции) в 1897 г. выступила с официальным заявлением, гласившим, что сомневаться в подлинности стихов 1 Ин 5:7-8 небезопасно [255]. Это заявление было одобрено и подтверждено папой Львом XIII. Современные католические исследователи, тем не менее, признают, что данный отрывок не является частью греческого текста Нового Завета; так, в четырех греко-латинских билингвах, изданных Бовером (Bover), Мерком (Merk), Нолли (Nolli) и Фогельсом (Vogels), Comma включена в текст Вульгаты, одобренный Тридентским собором, однако из греческого текста, напечатанного на соседней странице, этот отрывок выброшен [256].
Со временем Эразм выпустил четвертое и окончательное издание (1527 г.) Нового Завета в три столбца: первым шел греческий текст, затем собственный Эразмов перевод на латинский язык, затем Вульгата. Впервые Эразм смог ознакомиться с Комплютенской Полиглоттой уже после того, как в 1522 году выпустил третьим изданием собственный Новый Завет, и мудро решил воспользоваться текстом Хименеса - обычно превосходящим по качеству текст самого Эразма - для подготовки четвертого. В книге Откровения, например, четвертое издание отличалось от третьего примерно в 90 случаях, и везде источником новых чтений была Комплютенская Библия. В пятом издании (1535 г.) отсутствовала Вульгата, но греческий текст почти не был изменен в сравнении с четвертым.
Таким образом, в основу греческого текста Нового Завета Эразм положил полдюжины минускульных рукописей. Самой древней и лучшей из них (кодексом 1, минускулом X в., который довольно часто совпадает с более ранним маюскульным текстом), Эразм пользовался в наименьшей степени, поскольку опасался, что ее текст может оказаться неточным! С точки зрения текстологии Новый Завет Эразма весьма уступает Комплютенскому изданию, однако он первым появился на рынке, стоил дешевле, и формат его был удобнее для пользования. В силу этого эразмово издание имело гораздо большую популярность и влияние на читателей, чем Полиглотта, работа над которой длилась с 1502 по 1514 г. В дополнение к пяти изданиям, которые были выпущены самим Эразмом, в Венеции, Страсбурге, Базеле, Париже и других городах были отпечатаны неавторизованные воспроизведения, числом, как полагают, более тридцати.
Последующие издатели новозаветного текста, хотя и внесли в текст Эразма некоторые исправления, воспроизводили, по сути, ту же самую довольно посредственную форму греческого Нового Завета. Незаслуженно обеспечив себе позиции доминирующего текста, новозаветный Textus Receptus (как его со временем назовут), в течение четырех веков сопротивлялся любым попыткам заменить его на более ранний и точный текст. Вот лишь самые яркие примеры этого.
Первое издание полной греческой Библии было осуществлено в феврале 1518 г. Ее напечатала в трех частях знаменитая венецианская типография Альда Мануция. Текст Нового Завета предваряется посвящением Эразму и в точности повторяет первое подготовленное им издание - воспроизводятся даже типографские ошибки, которые сам Эразм исправил в приложенном списке опечаток!
В 1538 г. в Венеции Иоанн Антоний де Николинис де Сабио (de Sabio) выпустил двухтомное, прекрасно исполненное карманное издание (размер страниц 7,5 × 10 см) в двух томах (первый содержал 616 страниц, второй - 475 страниц). Книга эта, изданная Мельхиором Сесса (Sessa), на редкость эклектична и основывается то на тексте Эразма, то на альдине, то временами дает чтения, которых нет ни в одном из предшествующих изданий [257]. Как и многие ранние издания, карманная Библия содержала справочный аппарат для помощи читателям: списки заголовков каждой главы, жизнеописания евангелистов, предисловия к некоторым книгам, описание путешествий Павла и его мученической смерти [258].
Известный парижский издатель и печатник Робер Этьенн (Robert Estienne, латинизированная форма фамилии - Stephanus, 1503-1559) выпустил четыре издания Нового Завета, три первых в Париже (1546,1549 и 1550) и четвертое в Женеве (1551), где он провел последние годы жизни, став протестантом [259]. Парижские издания были выполнены особенно роскошно. Расходы на отливку шрифта оплатило французское правительство. Прекрасно исполненное третье издание (размер страниц 22×33 см) является первым греческим Новым Заветом, содержащим критический аппарат, на внутренних полях страниц Стефан записывал разночтения из 14 греческих рукописей и Комплютенской многоязычной Библии. Одной из рукописей, которую он цитировал, был знаменитый Кодекс Безы, колляцию разночтений которого сделали, по словам Стефана, его «друзья в Италии».
Текст изданий Стефана 1546 и 1549 гг. представляет собой соединение эразмова текста и Комплютенского; третье издание (1550) ближе подходит к тексту Эразма четвертого и пятого изданий. Случилось так, что третье издание Стефана для многих (в особенности в Англии) стало общепринятым текстом греческого Нового Завета.
Четвертое издание Стефана (1551) содержит два латинских перевода (Вульгату и латинский текст Эразма); напечатаны они колонками справа и слева от греческого текста. Это издание заслуживает особого внимания, поскольку в нем впервые текст был разбит на пронумерованные стихи. В книгах часто пишут, что Стефан делал эту разбивку, «путешествуя верхом на лошади», и иногда причиной неверного разделения являлся галоп лошади, из-за которого от толчков перо Стефана будто бы не попадало на нужную строку [260]. Сын Стефана действительно писал, что его отец работал над текстом во время конного путешествия (inter equitandum) из Парижа в Лион, но наиболее логично было бы предположить, что работа выполнялась во время отдыха на постоялых дворах [261].
В 1553 г. infolio Стефана 1550 г. было переиздано меньшим форматом (8,5×14 см) Жаном Криспеном или Креспеном (Crispin или Crespen), французским печатником, который работал в Женеве и выпустил несколько изданий Священного Писания на различных языках, в том числе и вторую английскую Библию в четверть листа (1570 г.). Криспен воспроизвел текст Стефана, внеся в него лишь с полдюжины незначительных исправлений. Он воспроизвел также и разночтения, указанные в издании 1550 г. [262], но без сделанных Стефаном ссылок, из каких рукописей они были взяты. Одно из этих двух изданий - собственно напечатанное Стефаном или карманный репринт Криспена - легло в основу английского перевода Нового Завета (Женева, 1557), первого англоязычного издания с разночтениями, вынесенными на поля [263]. Этот перевод сделан Уильямом Уиттингэмом (William Wittingham) и его собратьями-протестантами, с которыми он бежал из Англии.
Теодор де Без, латинизированная форма - Беза (de Bese или Beza, 1519-1605), друг и преемник Кальвина в на посту главы Женевской церкви, выдающийся библеист и филолог-классик, между 1565 и 1604 г. осуществил не менее девяти изданий греческого Нового Завета, десятое же вышло уже после его смерти в 1611 г. Из них самостоятельными являются лишь четыре - а именно те, что вышли в 1565, 1582, 1588-1589 и 1598 гг., тогда как остальные являются перепечатками меньшего формата. Эти издания снабжены аннотациями, собственным латинским переводом Безы и текстом Вульгаты; они содержат некоторые текстологические сведения, взятые из нескольких греческих рукописей, которые Беза изучил самостоятельно, а также рукописей, с которыми работал Анри Этьенн, сын Робера Этьенна. Среди рукописных материалов, которыми владел Беза, наиболее значительными были Кодекс Безы (Codex Bezae) и Клермонтский кодекс (Codex Claromontanus). Впрочем, сам Беза лишь в незначительной степени пользовался этими рукописями, поскольку они слишком отличались от общепринятого в то время текста. По всей видимости, Беза был первым ученым, который сделал колляции сирийского Нового Завета по изданию Иммануила Тремеллия (Emmanuel Tremellius, 1569 г.). Для Деяний Апостолов и Первого и Второго посланий к Коринфянам он воспользовался арабским переводом, который предоставил в его распоряжение Франциск Юниус (Junius). Несмотря на разнообразие дополнительных текстуальных свидетельств, которыми располагал Беза и о которых мы узнаем в основном из его аннотаций, собственно греческий текст Безы весьма мало отличался от текста четвертого издания Стефана 1551 г. Деятельности Безы важна для нас в основном тем, сколь много его издания поспособствовали тому, чтобы Textus Receptus получил свою стереотипную форму и широкое распространение. Переводчики Библии короля Иакова (King James Version, 1611 г.) во многом опирались на издания 1588-1589 и 1598 гг.
В 1624 г. братья Бонавентура и Авраам Эльзевир (Elzevir), коммерческие печатники из Лейдена [264], выпустили маленькое и удобное издание греческого Нового Завета, текст которого был заимствован из малого издания Безы 1565 г. В предисловии ко второму изданию Эльзевиров, вышедшему в 1633 г., было сказано следующее: «Итак, перед тобою текст, ныне принятый всеми, в котором не даем мы ничего измененного или ошибочного» [265]. Таким образом, в известной степени случайная рекламная фраза, нечто вроде современных хвалебных отзывов, печатаемых на обложке новой книги, закрепила за Textus Receptus репутацию общепринятого и стандартного. Отчасти благодаря этому удачно выбранному названию текстуальный вариант, представленный в изданиях Стефана, Безы и Эльзевиров, постепенно достиг положения «единственно верного греческого новозаветного текста», который с рабской покорностью воспроизводили сотни более поздних переизданий. Именно он был положен в основу английской Библии короля Иакова и всех основных протестантских переводов на европейские языки вплоть до 1881 г. Почтение к Textus Receptus стало настолько суеверным, что в иных случаях даже на его критику смотрели как на кощунство. Тем не менее, основой его текста были и остаются несколько поздних и случайных минускулов, а в дюжине случаев его чтения вообще не имеют соответствий в сохранившихся греческих рукописях.
II. Сбор текстуальных разночтений
Следующий этап в истории новозаветной текстологии характеризуется чередой настойчивых попыток собрать разночтения из греческих рукописей, переводов и произведений отцов церкви. В течение двух столетий ученые рыскали по библиотекам и музейным коллекциям и в Европе, и на Ближнем Востоке, пытаясь обнаружить новые неизвестные свидетельства о новозаветном тексте. Тем не менее, практически все издатели Нового Завета в этот период довольствовались тем, что перепечатывали освященный временем, но по сути своей испорченный Textus Receptus, а сведения о более ранних источниках низводились в справочный аппарат. Отдельных смельчаков, бесстрашно печатавших другой вариант греческого текста, либо осуждали, либо игнорировали.
Первая систематическая подборка разночтений (ибо подборка Стефана в издании 1550 г. была достаточно хаотичной) появилась в многоязычной Библии, изданной Брайаном Уолтоном (Brian Walton, 1600-1661) в Лондоне в 1655-1657 гг. в шести томах in folio [266]. Пятый том (1657) содержал Новый Завет на греческом, латинском (в двух вариантах: Вульгата и перевод Ария Монтана), сирийском, эфиопском, арабском и персидском языках (на последнем - только Евангелия). Греческий текст и каждый из восточных переводов сопровождались их буквальным переводом на латынь. Греческий текст печатался по изданию Стефана 1550 г. с незначительными поправками. В постраничных примечаниях были даны разночтения из Александрийского кодекса, который незадолго до того (в 1627 году) был подарен Карлу I Кириллом Лукарисом, патриархом Константинопольским. В шестой том этого издания (содержащем приложения) Уолтон включил подготовленный архиепископом Ашшером (Ussher) критический аппарат разночтений, заимствованных из пятнадцати других авторитетных источников, к которым прибавились и варианты, размещенные на полях в издании Стефана [267].
В 1675 г. профессор Джон Фелл (John Fell, 1625-1686) [268], глава оксфордского Крайст-Чёрч-Колледжа (с 1676 года - епископ Оксфорда), анонимно выпустил Новый Завет малым форматом (9,5×14 см) - первое в истории оксфордское издание этой книги. Текст, заимствованный из эльзевирова издания 1633 г., был снабжен аппаратом, в котором, по заверениям Фелла, были указаны варианты из более чем 100 рукописей и древних переводов. К сожалению, два десятка этих свидетелей текста, включая Ватиканский кодекс (B), цитируются не самостоятельно, но только в тех случаях, когда Фелл указывает число рукописей, которые согласны между собой относительно какого-либо чтения. Кроме того, благодаря аппарату этого издания впервые стало возможно воспользоваться сведениями готского и бохейрского переводов (их предоставил Феллу Т. Маршалл).
Приблизительно в одно время с выходом издания Фелла новозаветной текстологией начал заниматься Джон Милл (John Mill, 1645-1707) [269], член Квинс-колледжа в Оксфорде. Плодом его трудов, которым Милл отдал более трех десятков лет, стал греческий текст Нового завета, увидевший свет за две недели до кончины издателя в возрасте 62 лет, последовавшей 23 июня 1707 г. [270]. Публикация эта открыла новую эпоху в новозаветной науке. Милл не только собрал из греческих рукописей, ранних переводов и произведений отцов церкви все свидетельства, какие только был в силах отыскать, но и предварил свое издание ценными пролегоменами (или, иначе, вводными замечаниями), в которых рассматривается вопрос о каноничности Нового Завета и путях передачи его текста. Милл описал 32 печатных издания Нового Завета и около сотни рукописей, а также проанализировал наиболее важные выдержки из наследия отцов церкви. Некоторое представление об этих пролегоменах дает приложенный к ним индекс - в нем упомянут 3041 новозаветный стих из 8000. Несмотря на столь огромный дополнительный материал, сопровождавший издание, Милл все же не дерзнул представить собственный текст, а перепечатал текст Стефана 1550 г., ни разу сознательно не переменив его.
Репринтное издание Милла с несколько измененными вводными замечаниями и с добавлением сведений о других 12 рукописях появилось в 1710 г. в Амстердаме и Роттердаме благодаря вестфальцу Лудольфу Кюстеру (Küster). Это издание Кюстера, в свою очередь, также было перепечатано в Лейпциге в 1723 г., на сей раз с новым титульным листом, а затем в Амстердаме в 1746 г.
Подобно тому, как критические замечания Уолтона подверглись критике Оуэна, монументальному труду Милла было суждено выдержать ряд нападок со стороны Дэниела Уитби (Witby), ректора церкви св. Эдмунда в Солсбери. Встревоженный столь огромным числом представленных Миллом разночтений (в общей сложности их число перевалило за 30000), Уитби доказывал, что авторитет Священного Писания находится под угрозой, а составление критического аппарата означает разрушение текста [271].
Нашлись, однако, среди ученых и те, кто по достоинству оценил текстуальный аппарат Милла и предпринял попытку воплотить собранный им материал в виде новозаветного текста. Между 1709 и 1719 гг. математик и богослов Эдвард Уэллс (Edward Wells, 1667-1727) выпустил в Оксфорде греческий текст Нового Завета в десяти частях с разнообразными вспомогательными материалами в помощь читателю [272]. Уэлс отступает от текста Эльзевира 210 раз, почти всегда предвосхищая чтения критических изданий XIX в. Хотя современники почти полностью проигнорировали издание Уэллса, в истории новозаветной текстологии его имя стоит первым в списке тех, кто издал полный Новый Завет, отступая от Textus Receptus ради чтений из более древних рукописей.
Ричард Бентли (Richard Bentley, 1662-1742), глава кембриджского Тринити-колледжа, в истории классической филологии запомнился тем, что выявил поддельный характер сборника писем Фалариса, осуществил критические издания Горация и Теренция, открыл использование дигаммы в произведениях Гомера, а также предложил немало мастерских конъектур к текстам самых разных античных авторов. В достаточно молодом возрасте Бентли вступил со многими учеными в переписку относительно критического издания греческого и латинского Нового Завета. В 1720 г. он выпустил «Предложения для печати» - шестистраничный проспект такого издания, приводя как образчик будущего текста последнюю главу Откровения на латинском и греческом языках [273]. В ней Бентли отступил от Textus Receptus более чем в 40 местах [274].
Бентли был уверен, что следуя тексту древнейших рукописей греческого оригинала и иеронимовой Вульгаты, ему удастся восстановить Новый Завет, каким он был в IV в. «Изъявши две тысячи погрешностей из папской Вульгаты [Бентли имет в виду издание папы Климента 1592 г. - Прим. авт.] и столько же из Библии протестантского папы Стефана [греческий текст Стефана 1550 г. - Прим. авт.], я могу, пользуясь только лишь книгами, каждая из которых написана девятьсот лет тому назад и более, напечатать тот и другой текст бок о бок столбцами, так, что последние непременно окажутся согласованы друг с другом слово в слово, строка в строку, точнее, нежели два договора или расписки» [275]. Очевидно, глава колледжа Св. Троицы отнюдь не страдал заниженной самооценкой. В «Предложениях» он называл готовящееся к выходу издание «κτῆμα ἐσαεί, устав и Великая Хартия вольностей для всей христианской церкви, каковая останется, когда все рукописи, здесь цитируемые, могут быть утеряны и уничтожены».
Была объявлена подписка, чтобы собрать деньги на это издание. Более тысячи предполагаемых покупателей внесли около двух тысяч фунтов стерлингов. Однако, несмотря на тщательно разработанные планы и привлечение огромного числа новых данных из различных рукописей и трудов отцов церкви, вся проделанная подготовительная работа никакого результата не принесла: после смерти Бентли его помощник возвратил деньги подписчикам [276].
Пока Бентли собирал материал для своего издания, которое должно было раз и навсегда вытеснить Textos Receptos, в Лондоне в 1729 г. появилось анонимное двухтомное греко-английское издание, озаглавленное: «Новый Завет на греческом и английском языках, содержащий оригинальный текст, исправленный согласно авторитету древнейших рукописей, и новая версия, составленная в согласии с иллюстрациями, кои принадлежат самым ученым комментаторам и критикам, с примечаниями, разночтениями и обширным алфавитным указателем». У этого издания имелось несколько типографских особенностей. В греческом тексте издатель убрал знак тонкого придыхания и ударений, а вместо греческого вопросительного знака (;) использовал обычный (?). В английском переводе и в поясняющих замечаниях он начинал с заглавной буквы только то предложение, которое открывало абзац.
Подготовил это двуязычное издание Даниэл Мэйс (Mace), пресвитерианский пастор в Ньюбери. Он выбрал из аппарата Милла только те варианты, которые, как он полагал, давали чтения по качеству лучшие, нежели Textos Receptos. Своим выбором Мейс во многом предваряет суждение более поздних исследователей [277]. Сходным образом и его английский перевод отличался новыми чертами, поскольку Мейс ввел много живых разговорных выражений; например, «don't», «can't», «what's», слова Симона фарисея, обращенные к Иисусу, Лк 7:40 «Master, said he, let's hear it». To здесь, то там, Мэйс предвосхищает формулировки современных английских переводов. Так, стих Мф 6:27 (в котором Библия короля Иакова спрашивает, может ли кто-то прибавить хоть один локоть к росту своему), Мейс передает так: «Кто может прибавить своими трудами хоть одно мгновенье к своему веку?» В Лк 12:25 ту же мысль он выражает так «…но кто из вас, во всех своих заботах, может прибавить хоть миг к веку жизни своей?» В постраничных примечаниях и приложениях Мейс объясняет, почему он счел нужным отойти от традиционного текста и перевода. Некоторые комментарии обнаруживают в Мэйсе свободный и независимый дух. Так, в примечании к Гал 4:25 (Σινα ορος εστιν εν τῃ Αραβίᾳ) он пишет: «Здесь по всем признакам интерполяция: эти слова совершенно чужды приводимым аргументам и служат лишь к запутыванию доводов апостола, каковые без них звучат весьма ясно и связно». Мэйс отбрасывает аргументацию Милла, который в «Пролегоменах» (§ 1306) к своему изданию Novum Testamentum Graecum, cum lectionibus variantibus (Oxford, 1707) указывал на единодушие рукописной традиции, презрительным замечанием: «Как будто бы существует рукопись, которая древнее здравого смысла» (с. 689), и предлагает собственную конъектуру το γαρ Αγαρ συστοιχει τῃ νυν Ιερουσαλημ… В своем развернутом анализе авторства и заглавия Послания к Евреям Мэйс пишет: «Один наш высокоученый писатель думает, будто Евр 13:23 достаточным образом доказывает, что именно Павел написал это послание, словно бы никто помимо Павла не мог быть знаком с Тимофеем. Сие явно доказывает, что дабы понять доктрину морального свидетельства, т. е. доктрину возможного, требуется немного иная выучка и иная пища, нежели неуклюжая жвачка из нескольких древнееврейских корней» (с. 840).
Издание Мейса ждала та же участь, что и труды многих других новаторов - на него либо не обращали внимания, либо яростно нападали. В Англии викарий церкви св. Марии в Мальборо Леонард Твеллз (Twells), выпустил в трех частях «Критическое исследование новейшего Нового Завета и перевода Нового Завета, в коем разоблачены и с порицанием исправлены испорченный издателем текст, ложный перевод и лживые примечания» (London, 1731-1732) [278]. В континентальной Европе такие ученые, такие как Приций (Pritius), Баумгартен (Baumgarten) и Маш (Masch), даже превзошли Твеллза в оскорбительных нападках на Мэйса. Большинство же теологов предпочло принять позу, подобную страусиной, и вскоре издание Мейса было почти забыто [279].
Имя Иоганна-Альбрехта Бенгеля (Johann Albrecht Bengel, 1687-1752) открывает новую страницу в истории новозаветной текстологии [280]. Еще будучи студентом богословия в Тюбингене, он испытал сильное смущение от того, что его благоговейная вера в безоговорочную богодухновенность текста Библии, была поколеблена сводкой из 30000 разночтений, опубликованных в издании Милла. Юноша решил посвятить свою жизнь изучению того, каким образом и какими путями дошел до нас текст Св. Писания. С присущей ему энергией и настойчивостью Бенгель изучил все издания, рукописи и ранние переводы, какие смог достать. После тщательного изучения вопроса он пришел к выводу, что число разночтений меньше, чем можно было ожидать, и что они не ставят под сомнение ни один из пунктов евангельского учения.
В 1725 г., преподавая в Лютеранской подготовительной школе для будущих пасторов в Денкендорфе, Бенгель опубликовал тщательно продуманное эссе, своего рода набросок будущего издания Нового Завета [281]. В нем он сформулировал и обосновал свои критические принципы. Бенгель считал, что при оценке текстуальных свидетельств их нужно не подсчитывать, а взвешивать, иными словами, классифицировать «по сообществам, семьям, племенам и народам». Бенгель впервые выделил две большие группы, или в его терминологии, «народы» рукописей. Первой была «азиатская», происходившая из Константинополя и его ближней округи и включавшая позднейшие рукописи; вторая - «африканская», которую он подразделил на две подгруппы («племени»), представленные, соответственно, Александрийским кодексом и старолатинским текстом. Для оценки разночтений Бенгель вывел каноническое правило текстологии, которое в той или иной форме признано справедливым всеми последующими исследователями, занимавшимися текстуальной критикой. Оно основывается на признании того факта, что переписчик с большей долей вероятности был склонен упрощать сложные конструкции, нежели усложнять то, что уже являлось простым. На латинском языке Бенгель лаконично выразил это правило так: proclivi scriptioni praestat ardua («трудное чтение предпочтительнее более легкого»).
В 1734 г. Бенгель опубликовал в Тюбингене новое издание греческого текста Нового Завета - красивый том in quarto. Он не рискнул исправлять традиционный Textus Receptus согласно собственным убеждениям, но, напротив, везде (за исключением 19 мест в Книге Откровения) следовал правилу, которое сам на себя и возложил: не печатать чтений, которые не содержались бы в более ранних изданиях. На полях он, тем не менее, отметил значимые, с его точки зрения, разночтения, расположив их по следующим категориям: α оригинальные чтения; ß чтения вернее напечатанных; γ чтения, равноценные напечатанным; δ чтения менее верные, чем напечатанные; ε очевидно неверное чтение, которое должно быть отвергнуто. Бенгель также попытался стандартизировать пунктуацию Нового Завета и разделить весь текст на абзацы - новшество, которое с тех пор будет использоваться всеми издателями. Более половины тома было отдано трем экскурсам, в которых Бенгель изложил и обосновал свои текстологические принципы, включил аппарат, составленный на основе собранных Миллом данных, и свои собственные колляции из дополнительных двенадцати рукописей [282].
Хотя Бенгель был человеком, чье личное благочестие, добропорядочная жизнь (ведь он заведовал сиротским приютом в Галле) и ортодоксальность веры были общеизвестны (он был суперинтендантом Евангелической церкви Вюртемберга), к нему стали относиться так, словно бы он был врагом Священного Писания. Его побуждения тенденциозно перетолковывали, а само издание - бранили и осуждали; число предвзятых критиков в итоге стало столь большим, что Бенгелю пришлось опубликовать сначала на немецком языке, а затем и на латинском особый трактат «В защиту Нового Завета». В 1763 г., уже после смерти Бенгеля его зять, Филипп-Давид Бурк (Burk), опубликовал дополненное и расширенное издание apparatus criticus, а также несколько кратких брошюр, в которых Бенгель объяснял и отстаивал свои зрелые взгляды на то, каким должен быть метод в воссоздании древнейшего новозаветного текста.
Среди тех, кто готовил для Бентли колляции различных рукописей, был Иоганн-Якоб Веттштейн (Johann Jacob Wettstein, 1693-1754). Он родился в Базеле и там же стал протестантским пастором. Вкус к текстуальной критике проявился у него довольно рано; после ординации в возрасте двадцати лет Веттштейн произнес речь, посвященную разночтениям в Новом Завете. Его занятия текстологией, однако, кое-кто счел подготовкой к опровержению доктрины о божественности Христа, и в 1730 г. его отстранили от пастырского служения и отправили в изгнание. С 1733 г. он был профессором философии и еврейского языка в Арминианском колледже в Амстердаме (его предшественником по кафедре был прославленный Жан Леклерк); здесь Веттштейн и возобновил свои текстологические изыскания [283]. В 1751-1752 гг. появились первые плоды его сорокалетней исследовательской деятельности - в Амстердаме вышло в свет внушительное двухтомное издание греческого Нового Завета. Хотя Веттштейн перепечатал текст Эльзевира, на полях он указал те варианты, которые считал более правильными. В приложении под заглавием «Animadversiones et cautiones ad examen variarum lectionum N. T. necessariae» [284] он дает много полезных советов. Например, он формулирует правило codices autem pondere, non numero estimandi sunt (§ XVIII fin., «рукописи должны оцениваться по их значимости, а не по их числу»). Несмотря на то, что Веттштейн придерживался в целом передовых научных взглядов, применял он их довольно хаотичным образом. Он даже пытался отстаивать (скорее всего, в пику Бенгелю) неправдоподобную теорию о том, что все ранние греческие рукописи испорчены по латинским переводам, и поэтому первоначальный текст следует искать в более поздних греческих рукописях.
В аппарате Веттштейна впервые стали использовать заглавные латинские буквы для обозначения маюскульных рукописей, а арабские цифры - для минускульных (включая лекционарии). Эта система обозначения применяется и сегодня. В дополнение к тексту издание Веттштейна содержало тезаурус цитат из греческих, латинских и раввинистических авторов, иллюстрирующих использование новозаветной лексики и фразеологии. Хотя критические суждения Веттштейна были не так основательны, как у Бенгеля, страсть к изучению рукописей подтолкнула его к многочисленным путешествиям, в результате которых было впервые или вновь исследовано около 100 манускриптов, а его комментарий до сих пор является ценным хранилищем классической, патристической и талмудической традиций [285].
Иоганна-Соломона Землера (1725-1791) часто называют родоначальником немецкого рационализма. Хотя Землер не опубликовал ни одного издания Нового Завета, тем не менее, он внес заметный вклад в развитие текстологии, переиздав пролегомены Веттштейна со своими комментариями [286]. Приняв бенгелеву систему распределения рукописей по группам, Землер пошел еще дальше: он предложил соотнести группу, которую Бенгель называл азиатской, а сам Землер переименовал в восточную, с рецензией [287], подготовленной в начале IV в. Лукианом Антиохийским, а происхождение африканской (по Бенгелю) группы, переименованной, соответственно, в западную, или египетско-палестинскую, возвести к Оригену. Впоследствии Землер расширил свои исследования в области текстологии и предложил следующее деление новозаветных рукописей на группы: 1) александрийскую, восходящую к Оригену и сохранившуюся в сирийском, эфиопском и бохейрском переводах; 2) восточную, бытовавшую в Антиохийской и Константинопольской церквах, и 3) западную, отраженную в латинском переводе и у латинских отцов. Позднейшие источники, как он полагал, характеризуются наличием черт из всех редакций [288].
Следующее важное издание Нового Завета возвращает нас в Англию. Его осуществил Вильям Бойер младший (William Bowyer, 1699-1777), принадлежавший к третьему поколению династии знаменитых лондонских печатников. Бойера часто называют «самым знаменитым печатником Англии» [289]. Он выказывал не только подлинно научную зоркость при печатании самого широкого спектра книг, но и часто сопровождал свои издания ценными в научном смысле предисловиями, аннотациями и исправлениями ошибок. После того, как они с отцом выпустили несколько изданий Textus Receptus (в 1715, 1728, 1743 и 1760 гг.), Бойер решил, что настало время для публикации критического издания, которое не посрамило бы высокую репутацию его фирмы. И вот, в 1763 г. такое издание появилось. Напечатано оно было в двух томах размером в 1/12 листа. Текст был сконструирован главным образом из критических замечаний о древнейших чтениях, которые Веттштейн вынес на поля своего издания. Бойер атетировал при помощи квадратных скобок места, которые отсутствуют в наиболее надежных рукописях; такая судьба постигла доксологию Иисусовой молитвы (Мф 6:13), pericope de adultera (Ин 7.53-8:2), Comma Johanneum (1 Ин 5:7-8), отдельные стихи (например, Деян 8:37 и 15:34) и слова на протяжении всего новозаветного текста. В других местах Бойер также отступал от Textus Receptus и вводил в свой текст чтения, которые даются в более надежных рукописях [290]. В приложение ко второму тому Бойер включил около 200 страниц исправлений различных мест Нового Завета, текстовых и пунктуационных [291].
Другой англичанин, Эдвард Харвуд (Edward Harwood, 1729-1794), служитель нонконформистской церкви, опубликовал в 1776 г. двухтомное издание Нового Завета, в котором, как гласил титульный лист, «сверены тексты наиболее одобряемых рукописей, с выбранными примечаниями на английском языке, со ссылками на авторов, кои наилучшим образом изъяснили Священные Писания; к каковым также прилагается каталог основных изданий греческого текста Нового Завета и список наиболее уважаемых исследователей и критиков». Тексты Евангелий и Деяний Апостолов Харвуд печатал в основном по Кодексу Безы, а тексты посланий Павла - по Клермонтскому кодексу. В тех случаях, когда эти тексты оказывались недоступны, он прибегал к помощи других рукописей, в основном Александрийского кодекса [292]. Проанализировав тысячу новозаветных отрывков, Рейсс (Reuss) обнаружил, что Харвуд отступал от Textus Receptus более чем в 70 случаях из ста, а в 643 местах его текст совпадает со знаменитым критическим изданием Лахманна, которое появится только в XIX в. (см.).
Неудивительно, что в то время, когда лишь очень немногие смельчаки могли отважиться на критику незыблемых позиций Textus Receptus, первым Греческим Новым Заветом, который появился в Америке, был именно этот общепринятый текст [293]. Это издание было напечатано Исайей Томасом младшим (Isaiah Thomas, 1749-1831), предприимчивым и трудолюбивым янки. Отданный в ученики к печатнику в возрасте шести лет после - ни много ни мало - шести недель школьного обучения, к которому он не проявлял никакого интереса, Томас очень скоро начал свое профессиональное восхождение и достиг таких вершин, что был принят в члены почти всех научных обществ страны. Почетные степени ему присудили Дартмутский и Аллигенский колледжи. Его типография выпустила более 900 наименований книг - больше, чем предприятия его ближайших конкурентов Бенджамина Франклина, Хью Гейна и Мэтью Кери. Блестящая типографская работа и разнообразие печатной продукции позволили Франклину с полным правом назвать Томаса «американским Баскервиллем». Предчувствуя, что рынок готов для нового издания греческого Нового Завета, Томас заручился поддержкой образованного церковного служителя Калеба Александера [294] и выпустил editio prima Amerícana греческого Нового Завета. Это издание в 478 страниц размером в 1/12 листа было напечатано в Вустере, (штат Массачусетс) в апреле 1800 г.
На титульном листе отмечается, что настоящее издание с точностью воспроизводит текст по изданию Джона Милла (juxta exemplar Joannis Millii accuratissime impressum). Это, однако, не вполне справедливо, поскольку более чем в 20 местах явно видна редакторская работа Александера. Судя по данным книги Айзека Холла [295], сравнение изданий Безы и Эльзевира показывает, что Александер по своему усмотрению включал разночтениями то по одному, то по другому изданию. Внешнее оформление и формат книги во многом повторяют издание Textos Receptos Бойера. Фактически титульный лист издания Александера-Томаса слово в слово и строка в строку воспроизводит (кроме даты, имен и места публикации) титульный лист издания Бойера 1794 г. [296].